Часть 4
Всходы
ненаказанного
зла
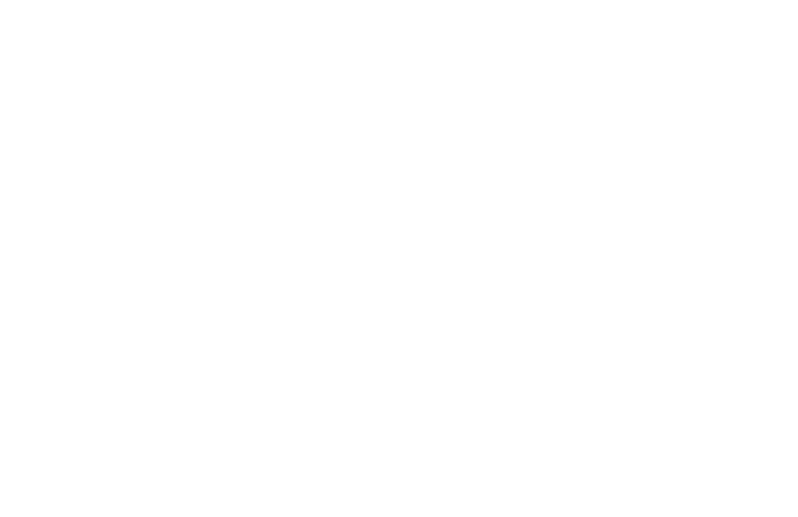
Правозащита бывает не только светская. Священнослужители тоже становятся своеобразными блюстителями прав и человечности. Когда человек не знает, как защитить себя и не надеется на помощь, ему может помочь церковник. В тюрьме заключённый чувствует одиночество. Пока не окажешься внутри, не поймешь, что это.
И поэтому люди объединяются в «семейники» обычно на 4-5 человек,
в которых живут те, кто более доверяет друг другу. Но открыть душу по-настоящему даже этим людям осуждённый обычно не может. Когда тебя отделяют от свободы и родных только несколько сантиметров стен и забор, но освободиться от оков ты не можешь, начинаешь замыкаться в себе. Священник придомовой церкви Святой Анастасии Узорешительницы Александр Степанов, служивший 30 лет в разных тюрьмах, в том числе и в Колпинской воспитательной колонии
для малолетних, отмечает:
И поэтому люди объединяются в «семейники» обычно на 4-5 человек,
в которых живут те, кто более доверяет друг другу. Но открыть душу по-настоящему даже этим людям осуждённый обычно не может. Когда тебя отделяют от свободы и родных только несколько сантиметров стен и забор, но освободиться от оков ты не можешь, начинаешь замыкаться в себе. Священник придомовой церкви Святой Анастасии Узорешительницы Александр Степанов, служивший 30 лет в разных тюрьмах, в том числе и в Колпинской воспитательной колонии
для малолетних, отмечает:
“
«Пенитенциарная система устроена так, что ты хоть во ФСИН, хоть в прокуратуру, хоть в полицию пиши – всё одно – ноль пользы. Священник же может дать утешение. Там ты перестаёшь общаться с окружающими, не рассказываешь
о наболевшем, потому что сентиментальность и проявление эмоций в тюрьме воспринимаются как признаки слабости. Они показывают, что на такого человека можно воздействовать. К священнику же идут за возможностью пообщаться, честно рассказать о боли и страхе».
о наболевшем, потому что сентиментальность и проявление эмоций в тюрьме воспринимаются как признаки слабости. Они показывают, что на такого человека можно воздействовать. К священнику же идут за возможностью пообщаться, честно рассказать о боли и страхе».
Отец заведует придомовой церковью Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы. Сюда не приходят толпы верующих, церковь, можно сказать,
«для своих», но при этом своим может стать каждый. Кабинет настоятеля походит
на странную смесь церковного и светского помещения. На стене висит много картин. Портрет седовласого старца с пронзительным взглядом выделяется на общем фоне. Это изображение архимандрита Курляндского Кирилла Начиса, духовного наставника Отца Александра. Дореволюционный богемный уголок на набережной Лейтенанта Шмидта разрушает музыкальная система Sony с горами кассет, дошедшая до нас из нулевых годов, тогда она, вероятно, была редкостью; и пианино
с церковными подсвечниками – Отец Александр любитель музыки. Петь ему приходится и по долгу церковной службы. Однако в живой его речи часто проскальзывают жаргонные тюремные словечки – 30-летняя профдеформация.
Тут же рядом с «мирским» облачением на вешалке висит ряса и поповский колпак, одеяние скромное, без золочёных тиснений.
«для своих», но при этом своим может стать каждый. Кабинет настоятеля походит
на странную смесь церковного и светского помещения. На стене висит много картин. Портрет седовласого старца с пронзительным взглядом выделяется на общем фоне. Это изображение архимандрита Курляндского Кирилла Начиса, духовного наставника Отца Александра. Дореволюционный богемный уголок на набережной Лейтенанта Шмидта разрушает музыкальная система Sony с горами кассет, дошедшая до нас из нулевых годов, тогда она, вероятно, была редкостью; и пианино
с церковными подсвечниками – Отец Александр любитель музыки. Петь ему приходится и по долгу церковной службы. Однако в живой его речи часто проскальзывают жаргонные тюремные словечки – 30-летняя профдеформация.
Тут же рядом с «мирским» облачением на вешалке висит ряса и поповский колпак, одеяние скромное, без золочёных тиснений.
– Все мои социальные начинания являлись откликом на запрос. Ко мне приходили люди и просили о помощи. Так я прослужил в церкви при психоневрологическом интернате №10, так же я пришел и к тюрьме: сходил однажды туда, посмотрел,
что делается, и понял, что надо идти ещё. Пенитенциарная система устроена так,
что ты хоть во ФСИН, хоть в прокуратуру, хоть в полицию пиши – всё одно – ноль пользы. Священник же может дать утешение.
В тюрьме человек чувствует одиночество. Пока там не окажешься,
не поймешь, что это. Люди внутри объединяются в некоторые «семейники»,
по-другому «хлебники», обычно на 4-5 человек, в которых живут те, кто более доверяет друг другу. Но открыть душу по-настоящему даже этим людям осуждённый обычно не может. Когда тебя отделяют от родных, знакомых мест и свободы только несколько сантиметров стен и забор, но освободиться от оков ты не можешь, начинаешь замыкаться в себе. Ты перестаёшь общаться с окружающими,
не рассказываешь о наболевшем, потому что сентиментальность и проявление эмоций в тюрьме воспринимаются как признаки слабости. Они показывают, что на такого человека можно воздействовать. К священнику же идут за возможностью пообщаться без купюр, честно и рассказать о боли и страхе.
– 90-е – это были годы больших ожиданий от церкви. Она тогда осталась единственным институтом, сохранившимся в неизменённом виде с дореволюционных времён. И когда пошло отрицание советского периода истории, церковь смогла подняться на фоне этого противопоставления. Служба, традиции, храмы – всё такое же, как и за 100 лет до того. И этот интерес затронул тюрьму: у людей возникло ожидание: тогда от церкви хотели какой-то правозащиты, а теперь перестали вообще чего-либо ждать.
что делается, и понял, что надо идти ещё. Пенитенциарная система устроена так,
что ты хоть во ФСИН, хоть в прокуратуру, хоть в полицию пиши – всё одно – ноль пользы. Священник же может дать утешение.
В тюрьме человек чувствует одиночество. Пока там не окажешься,
не поймешь, что это. Люди внутри объединяются в некоторые «семейники»,
по-другому «хлебники», обычно на 4-5 человек, в которых живут те, кто более доверяет друг другу. Но открыть душу по-настоящему даже этим людям осуждённый обычно не может. Когда тебя отделяют от родных, знакомых мест и свободы только несколько сантиметров стен и забор, но освободиться от оков ты не можешь, начинаешь замыкаться в себе. Ты перестаёшь общаться с окружающими,
не рассказываешь о наболевшем, потому что сентиментальность и проявление эмоций в тюрьме воспринимаются как признаки слабости. Они показывают, что на такого человека можно воздействовать. К священнику же идут за возможностью пообщаться без купюр, честно и рассказать о боли и страхе.
– 90-е – это были годы больших ожиданий от церкви. Она тогда осталась единственным институтом, сохранившимся в неизменённом виде с дореволюционных времён. И когда пошло отрицание советского периода истории, церковь смогла подняться на фоне этого противопоставления. Служба, традиции, храмы – всё такое же, как и за 100 лет до того. И этот интерес затронул тюрьму: у людей возникло ожидание: тогда от церкви хотели какой-то правозащиты, а теперь перестали вообще чего-либо ждать.
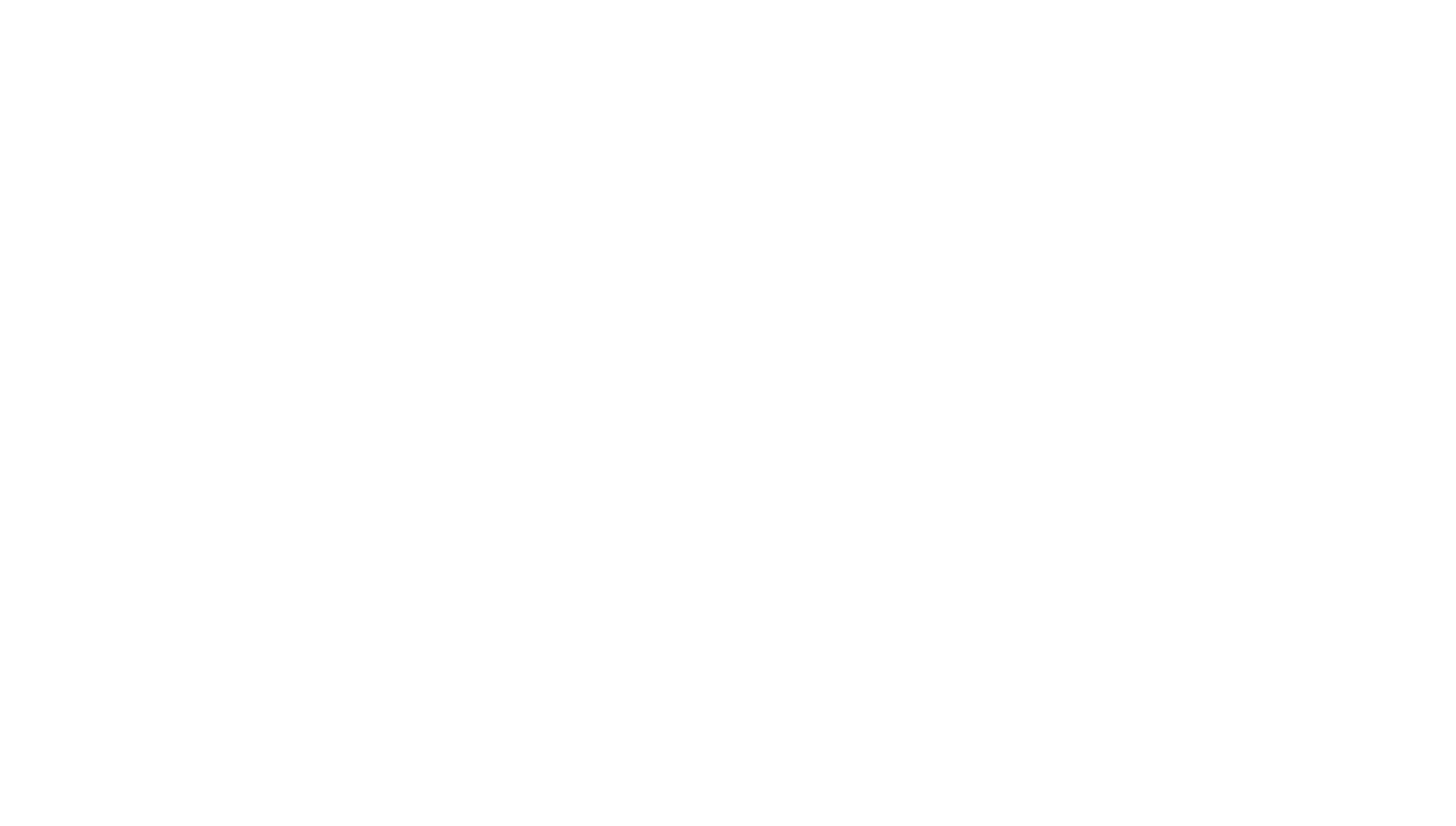
Приход церкви в 90-е годы XX века
– Вы говорили про правозащитную деятельность церкви, действительно удавалось помогать?
– Были такие попытки. И отчасти они удавались. В 2000-ые я служил
в детской колонии в Колпино, которую теперь закрыли из-за недобора арестантов. Раньше была принята политика избегания посадок несовершеннолетних. Если
же человек убил, изнасиловал или ограбил с тяжкими телесными повреждениями,
то за такое могли посадить, а за наркотики в основном давали условные сроки. Думаю, это делалось, чтобы просто похвастать, что у нас нет детской преступности.
Колония, конечно, даже детская, не ставит себе всерьёз перевоспитание людей, чтобы вернуть их в общество. И потому у тюрьмы нет показателей рецидивности их подопечных. У начальника там есть одна задача – предотвратить бунты, побеги, самоубийства и убийства. И пока до этой черты не дошло, он спокоен.
Суть всей системы – минимизировать издержки, следовательно, снизить количество работников. Тогда функции надзора и воспитания друг друга в какой-то степени переходят самим заключённым. Отсюда происходит тюремная иерархия, которую поддерживает администрация. На практике это выглядит следующим образом. Представьте себе среднестатистического заключённого, юного или взрослого.
Как правило, это люди с не очень высоким IQ, иногда с открытыми психическими отклонениями. Социальные навыки у них минимальные. Кровать заправлять они
не привыкли, вести быт – тоже.
Воспитывают таких наиболее авторитетные бугры, которые вразумляют человека.
В 2006-2007 годах развернулась следующая история. Один мальчишка, должен был поливать цветы, аквариумы мыть, такие у него были общественные послушания. Но он не поливал цветы. Так вот один бугай-ссадист привязал его к батарее и начал отрабатывать на нём удары, как на груше.
У парня было слабое сердце, оно не выдержало, и он умер. Отвязали, перенесли
на койку, так и скончался. Мальчишке было 16 лет, оставалось два месяца до выхода.
Все дети на зоне знали об этой ситуации. Они пришли ко мне на на службу исповедоваться и в смятенье рассказали. Спрашивали, что им говорить администрации, потому что «западло» закладывать того, который бил. Но, с другой стороны, они боялись, что за сокрытие информации им могут накрутить срок.
Дальше приехали полиция и прокуратура, ФСИН отставилась
в сторону. Началось следствие. На практике, конечно, всё это было полной ерундой. Единая система работает слаженно. Объявили, что у мальчика было слабое сердце,
ну бывает – умер… Приехала мама и повезла сына в гробу обратно в Мурманск, тогда как могла получить его целеньким через два месяца. Администрация колонии
и следователи сказали ей, что никаких следов насилия не было и что они оказывали сыну помощь. Уехала.
Мне было это сложно принять. За примерно 30 лет моей службы начальники
в колонии менялись почти каждый год. Позвонил этому очередному Василию Ивановичу и сказал приезжать ко мне в этот кабинет (в Церкви Святой Анастасии), нам нужно было поговорить. Приехал, начался диалог.
– Были такие попытки. И отчасти они удавались. В 2000-ые я служил
в детской колонии в Колпино, которую теперь закрыли из-за недобора арестантов. Раньше была принята политика избегания посадок несовершеннолетних. Если
же человек убил, изнасиловал или ограбил с тяжкими телесными повреждениями,
то за такое могли посадить, а за наркотики в основном давали условные сроки. Думаю, это делалось, чтобы просто похвастать, что у нас нет детской преступности.
Колония, конечно, даже детская, не ставит себе всерьёз перевоспитание людей, чтобы вернуть их в общество. И потому у тюрьмы нет показателей рецидивности их подопечных. У начальника там есть одна задача – предотвратить бунты, побеги, самоубийства и убийства. И пока до этой черты не дошло, он спокоен.
Суть всей системы – минимизировать издержки, следовательно, снизить количество работников. Тогда функции надзора и воспитания друг друга в какой-то степени переходят самим заключённым. Отсюда происходит тюремная иерархия, которую поддерживает администрация. На практике это выглядит следующим образом. Представьте себе среднестатистического заключённого, юного или взрослого.
Как правило, это люди с не очень высоким IQ, иногда с открытыми психическими отклонениями. Социальные навыки у них минимальные. Кровать заправлять они
не привыкли, вести быт – тоже.
Воспитывают таких наиболее авторитетные бугры, которые вразумляют человека.
В 2006-2007 годах развернулась следующая история. Один мальчишка, должен был поливать цветы, аквариумы мыть, такие у него были общественные послушания. Но он не поливал цветы. Так вот один бугай-ссадист привязал его к батарее и начал отрабатывать на нём удары, как на груше.
У парня было слабое сердце, оно не выдержало, и он умер. Отвязали, перенесли
на койку, так и скончался. Мальчишке было 16 лет, оставалось два месяца до выхода.
Все дети на зоне знали об этой ситуации. Они пришли ко мне на на службу исповедоваться и в смятенье рассказали. Спрашивали, что им говорить администрации, потому что «западло» закладывать того, который бил. Но, с другой стороны, они боялись, что за сокрытие информации им могут накрутить срок.
Дальше приехали полиция и прокуратура, ФСИН отставилась
в сторону. Началось следствие. На практике, конечно, всё это было полной ерундой. Единая система работает слаженно. Объявили, что у мальчика было слабое сердце,
ну бывает – умер… Приехала мама и повезла сына в гробу обратно в Мурманск, тогда как могла получить его целеньким через два месяца. Администрация колонии
и следователи сказали ей, что никаких следов насилия не было и что они оказывали сыну помощь. Уехала.
Мне было это сложно принять. За примерно 30 лет моей службы начальники
в колонии менялись почти каждый год. Позвонил этому очередному Василию Ивановичу и сказал приезжать ко мне в этот кабинет (в Церкви Святой Анастасии), нам нужно было поговорить. Приехал, начался диалог.
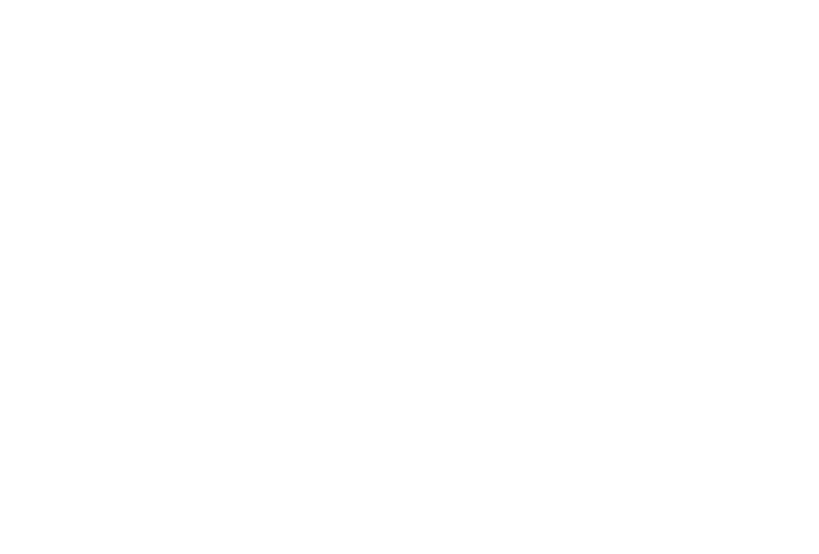
– Ну как же так, вы же знаете, что его убили, почему правду не скажете?!! Ко мне приходят ребята и говорят, как это было на самом деле. Вы
же понимаете, что я могу написать заявление, вас посадят, а ребята подтвердят словами!
– Ну, отец Александр, зачем вам это надо? Напишете, а все эти ребята
из-за страха откажутся от всего. К тому же вы не были свидетелем. Ничего
у вас не выйдет!
–Василий Иванович, вы же понимаете, что ненаказанное зло просто так
не рассеется, оно обязательно даст всходы?!..
же понимаете, что я могу написать заявление, вас посадят, а ребята подтвердят словами!
– Ну, отец Александр, зачем вам это надо? Напишете, а все эти ребята
из-за страха откажутся от всего. К тому же вы не были свидетелем. Ничего
у вас не выйдет!
–Василий Иванович, вы же понимаете, что ненаказанное зло просто так
не рассеется, оно обязательно даст всходы?!..
А дальше я осознал, что они напишут в епархию, расскажут о том,
что батюшка в колонии какой-то неспокойный, и меня снимут. И никому я больше
не помогу. По их мнению, следствие было честное, а я ссылался на кого-то там,
кто отказался от своих слов. В общем, ничего не сделать.
Но после того разговора ситуация стала только развиваться. Через три месяца – побег из колонии трёх человек с убийством сотрудницы. Начальника за такой недосмотр сразу сняли с должности. Но поставили нового. К сожалению, всё стало ещё хуже. Если первый был из «хозяйственников», которые думают о том, чтобы крыша
не текла, ничего не ломалось, то второй был полный отморозок – «оперативник»,
как я определяю такую категорию начальников.
Пришёл и первым делом всех «замочил» – отметелил заключённых до полусмерти. После чего начал выколачивать из детей (из их родителей с воли) деньги, чего
не было никогда до того. Потом стал шантажировать арестантов тем, что переведёт после 18-летия на взрослую зону, тогда как начальники могли оставлять в детской колонии до 21 года. Дети страшно боялись перехода, потому что не понимали,
как вести себя на «взросляке».
Ко мне тогда приехала целая делегация сотрудников, которые были ветеранами тюремного труда, ещё с 70-х годов работавшими на зоне. Они просили помочь
с разрешением ситуации. Начал думать, что стоит делать. Священник может многое...
что батюшка в колонии какой-то неспокойный, и меня снимут. И никому я больше
не помогу. По их мнению, следствие было честное, а я ссылался на кого-то там,
кто отказался от своих слов. В общем, ничего не сделать.
Но после того разговора ситуация стала только развиваться. Через три месяца – побег из колонии трёх человек с убийством сотрудницы. Начальника за такой недосмотр сразу сняли с должности. Но поставили нового. К сожалению, всё стало ещё хуже. Если первый был из «хозяйственников», которые думают о том, чтобы крыша
не текла, ничего не ломалось, то второй был полный отморозок – «оперативник»,
как я определяю такую категорию начальников.
Пришёл и первым делом всех «замочил» – отметелил заключённых до полусмерти. После чего начал выколачивать из детей (из их родителей с воли) деньги, чего
не было никогда до того. Потом стал шантажировать арестантов тем, что переведёт после 18-летия на взрослую зону, тогда как начальники могли оставлять в детской колонии до 21 года. Дети страшно боялись перехода, потому что не понимали,
как вести себя на «взросляке».
Ко мне тогда приехала целая делегация сотрудников, которые были ветеранами тюремного труда, ещё с 70-х годов работавшими на зоне. Они просили помочь
с разрешением ситуации. Начал думать, что стоит делать. Священник может многое...
«Священник может пойти в обход системы»
«Священник может пойти в обход системы»
Перевоспитание
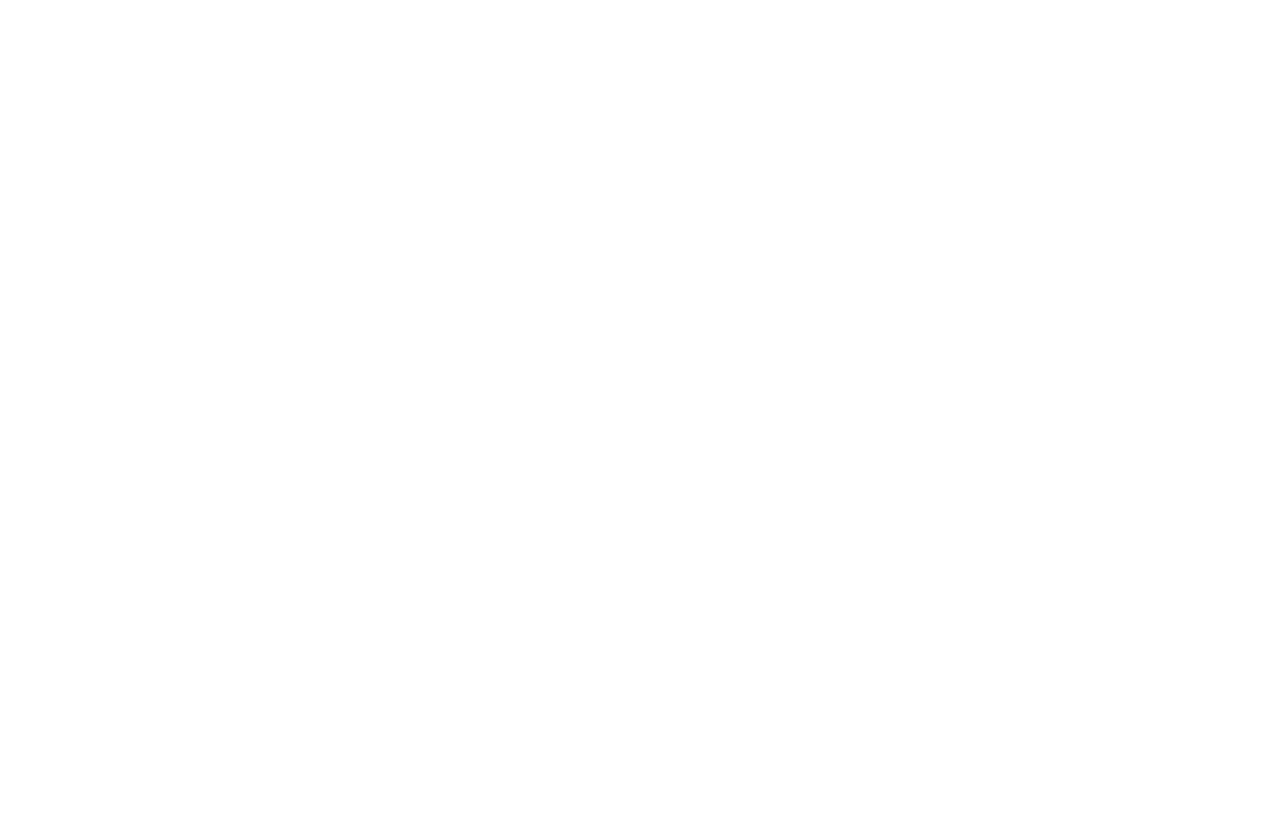
Тогда у меня и возникла идея создать центр Василия Великого,
где перевоспитывались бы условно осуждённые. Мы ликвидировали дедовщину: если надо мыть «сортир», то его моют все. Дисциплину удалось наладить строгим надзором. И, слава Богу, мы договорились, чтобы суды стали выносить приговоры
с обязательным прохождением реабилитации в нашем центре, а если человек
не хочет – поедет на зону. Так и должна строиться нормальная система пробации.
Через некоторое время мы решили: почему бы не перенести эту идею отсюда туда
(в колонию)? Детских мест заключения относительно немного, сидят там в основном человек по 50, а не по 2500, как во взрослой тюрьме. К тому же с молодыми ребятами можно работать, чтобы перевоспитать их и вернуть в общество. Тогда проводилась большая реформа ФСИН, и мы предложили её начальству построить новую систему исправления. Но нужно было договориться не только с этой структурой, но и с судами, с полицией, а также найти человека, который загорится идеей и возглавит «новую колонию». В конце концов нашли, на деньги спонсоров, например, Сергея Миронова построили скалодром, наняли тренеров по паркуру, в нулевые это было популярно, начали вести театральные занятия и всё это прямо внутри зоны. Такое своеобразное нравственное воспитание, которое заключалось в задании другого потока жизни.
Но до ФСИНа стало доходить, что происходит что-то не то, слишком всё либерально. В то время мы проводили театральное представление в зоне с участием осуждённых детей. Приехало несколько депутатов Госдумы и генерал ФСИН, ответственный
за воспитательную работу. Как только он зашёл, сразу начал язвить в мой адрес.
В его приезд решили ставить фрагменты «Гамлета» и связали их с тюремной тематикой. Но он демонстративно встал посреди спектакля и начал: «Ну что, долго эта ерунда ещё будет продолжаться?!» Вскочил и ушёл, забрав с собой всю приехавшую свиту. После чего он дал команду всё разогнать. Вскоре сменили начальника колонии и отобрали у всех приглашённых работников нашей церкви пропуска.
«Спасибо, нам ничего не нужно», – ответили они потом. И через время я понял,
что мы влезли во святая святых, потому что детская колония, где закладывается фундамент всей системы, – это кузница кадров. Все «воры в законе» прошли через детскую колонию, и начальникам нужно, чтобы порядок шёл своим ходом.
где перевоспитывались бы условно осуждённые. Мы ликвидировали дедовщину: если надо мыть «сортир», то его моют все. Дисциплину удалось наладить строгим надзором. И, слава Богу, мы договорились, чтобы суды стали выносить приговоры
с обязательным прохождением реабилитации в нашем центре, а если человек
не хочет – поедет на зону. Так и должна строиться нормальная система пробации.
Через некоторое время мы решили: почему бы не перенести эту идею отсюда туда
(в колонию)? Детских мест заключения относительно немного, сидят там в основном человек по 50, а не по 2500, как во взрослой тюрьме. К тому же с молодыми ребятами можно работать, чтобы перевоспитать их и вернуть в общество. Тогда проводилась большая реформа ФСИН, и мы предложили её начальству построить новую систему исправления. Но нужно было договориться не только с этой структурой, но и с судами, с полицией, а также найти человека, который загорится идеей и возглавит «новую колонию». В конце концов нашли, на деньги спонсоров, например, Сергея Миронова построили скалодром, наняли тренеров по паркуру, в нулевые это было популярно, начали вести театральные занятия и всё это прямо внутри зоны. Такое своеобразное нравственное воспитание, которое заключалось в задании другого потока жизни.
Но до ФСИНа стало доходить, что происходит что-то не то, слишком всё либерально. В то время мы проводили театральное представление в зоне с участием осуждённых детей. Приехало несколько депутатов Госдумы и генерал ФСИН, ответственный
за воспитательную работу. Как только он зашёл, сразу начал язвить в мой адрес.
В его приезд решили ставить фрагменты «Гамлета» и связали их с тюремной тематикой. Но он демонстративно встал посреди спектакля и начал: «Ну что, долго эта ерунда ещё будет продолжаться?!» Вскочил и ушёл, забрав с собой всю приехавшую свиту. После чего он дал команду всё разогнать. Вскоре сменили начальника колонии и отобрали у всех приглашённых работников нашей церкви пропуска.
«Спасибо, нам ничего не нужно», – ответили они потом. И через время я понял,
что мы влезли во святая святых, потому что детская колония, где закладывается фундамент всей системы, – это кузница кадров. Все «воры в законе» прошли через детскую колонию, и начальникам нужно, чтобы порядок шёл своим ходом.
После беседы мы ходим по кабинету, Отец Александр показывает свои картины, облачается в рясу. Этот переход из мирского
в божественное происходиткак будто невзначай, моментально.
Но переход этот необходим, потому что, думая о духовности
и помощи другим, человек возвышается над злом.
в божественное происходиткак будто невзначай, моментально.
Но переход этот необходим, потому что, думая о духовности
и помощи другим, человек возвышается над злом.
